Читать как жить среди своих: к каким книгам мы обращаемся во время войны
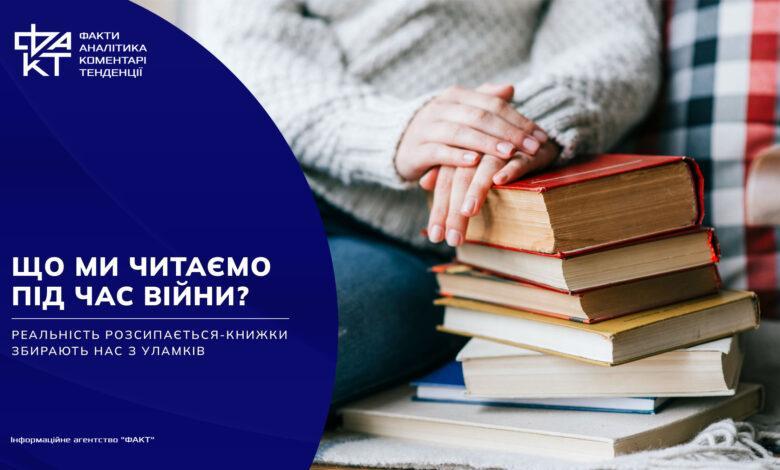
Что дает книга нам — читателям, переживающим войну? Художественная проза — это способ познать мир, даже если речь идет о выдуманной реальности. Она унифицирует опыт, структурирует боль, утраты, ожидания. Она не столько о выдумке, сколько о возможности сказать на общепонятном языке то, о чем трудно говорить вслух. В этом смысле художественный текст — это форма общей речи, где читательское «я» не одиноко, потому что кто-то в этой книге уже пережил нечто подобное. Во времена, когда мир падает, одиночество может оказаться самым опасным состоянием.
Документальная проза – другая. Она держится на деталях, с которыми не справится вымысел: запахах, полутонах, конкретике маршрутов, по которым передвигаются герои, нетипичных реакциях, случайных мыслях. Здесь важно не то, как на произведение отреагирует читатель, а то, насколько правдиво художник сможет зафиксировать собственное, незаурядное. Документальная проза свидетельствует: каждый опыт уникален. И именно поэтому она нужна, чтобы мы не забывали, что рядом всегда есть другой человек со своей болью и ритмом жизни.
Есть также тексты, опирающиеся на обе эти опоры — вымысел и факт. Они запутывают: кажется, прочитал живую историю — и вдруг она становится метафорой. Думаешь, что это мемуар, а потом наталкиваешься на выдуманное письмо или диалог. Так работает публицистика. В условиях войны этот жанр становится неожиданно честным.
В любом из жанров книга – это не просто бегство от тишины или страха. Это способ сохранять себя в мире, где все непостоянно, кроме слова.
Чтение собирает человека из обломков
Опрос, проведенный «Зеркало недели», показывает, что украинцы переживают войну, держась за слово. Более 23% опрошенных выбирают фэнтези и научную фантастику как способ уйти от реальности. И это не бегство в дурном смысле. Это стремление иметь пространство, где правила ясны, где зло можно победить, а будущее — вообразить. В то время, когда реальность рассыпается, вымышленный мир становится не только спасением, но и терапией.
Инфографика: ИА «ФАКТ»
Классика с ее вневременными историями, «дающими перспективу», стала источником утешения для 17%. В этом проявляется потребность за что-то держаться, когда все шаткое. Классика — это тихая уверенность в том, что человечество уже проходило темные времена и говорило о них до сих пор звучащим языком. Ее читают не для бегства, а чтобы увидеть войну как часть большого нарратива.
Понятно и выбор 14% читателей — документалистика об исторических событиях. Вероятно, потому, что понимание прошлого помогает считывать настоящее. Украинцы в этом случае стремятся не только к эмоциональной поддержке, но и к интеллектуальной рамке того, что с нами происходит.
Современная художественная литература (11%) — еще один важный маркер: читатель стремится найти слова, которые помогут осмыслить и назвать то, что болит именно сейчас. В то же время лишь 3% предпочитают книги о войне — и это говорит либо об усталости, либо о нежелании еще раз возвращаться к теме, которая и так не оставляет ежедневной действительности. Книга в таких условиях должна быть убежищем, а не одним полем боя.
Все эти цифры указывают на главное: книга во время войны не продукт, а процесс. Она либо лечит, либо вызывает сопротивление, либо просто лежит рядом — как обещание, которое его дочитают в мирной жизни.
21% опрошенных ответили, что вообще не читают — выбирают другие способы обновления. Это честный ответ. В опыте крушения не существует единой правильной траектории. Кому нужно слово, а кому тишина. Но и эта тишина тоже форма осознания потребности в возвращении к себе.
Этот опрос – не только о вкусах. Оно о нашем состоянии. И о том пути, который ведет к моменту, когда слово снова станет своим.
Советовать — значит быть рядом
Второй опрос, проведенный «Зеркалом недели», — другой по теме, но снова о доверии. На этот раз о доверии к книге. О том, как мы выбираем, что читать во времена, когда вокруг слишком много неопределенности, а каждое решение еще один шаг в темноте. Как показывают ответы, даже в этом, казалось бы, простом выборе — эхо войны.
Инфографика: ИА «ФАКТ»
Чаще украинцы ориентируются на «отзывы других читателей или советы знакомых» — так ответили 33% респондентов. Но за этим не просто доверие к литературному вкусу. Это жажда общего опыта. Когда книга – это не индивидуальный жест, а продолжение разговора. Когда выбор книги – это способ оставаться в кругу своих. Люди читают то, что читают другие, чтобы не чувствовать себя одинокими. При этом одна из главных функций литературы: создавать горизонт общих смыслов. А слово «знакомые» сегодня часто означает не просто приятелей, а тех, с кем вместе прятались в укрытиях, кто сбрасывал ссылки на бесплатные электронные библиотеки в первые недели вторжения.
31% выбирают книгу спонтанно — «за тем, что заинтересует в книжном магазине». Этот вариант особенно красноречив. Мы устали просчитывать. Живем в режиме реагирования, а не стратегического планирования. И книга – это тоже о моменте. О настроении, которое меняется каждый час. О переплете, который говорит что-то именно сегодня. Это выбор, когда доверяешь случаю почти как дыхание, почти как жест.
20% ориентируются на автора или любимое издательство. Это те, кто до сих пор верят в систему координат. В том, что имена держат качество. Что даже в хаосе есть те, кто не сдает позиции. Это о памяти. Об опыте, который ты когда-то уже поддержал — и, возможно, сделаешь это снова.
Только 9% доверяют литературным премиям. Это не просто показатель. Это сигнал о кризисе институционального доверия. Премии уже не гарантируют ни значимости, ни искренности. Читатель ищет не канон, а единомышленника. Не награжденного, а экзистенциально близкого. И еще 7% — это те, кто выбирает что-то другое. Возможно, по запаху страницы. За шрифтом. По первой фразе. А может быть, по интуиции. Их выбор – это сопротивление однообразному. Это чутье, не требующее объяснений.
Этот опрос – не только о критериях. Оно – о поиске. О том, что мы хотим найти в книге: уверенность, знакомый голос, глоток другой реальности. И о том, что, несмотря на усталость, украинский читатель не перестает искать. Потому что в поиске тоже жизнь.
Библиотека не как место, а как продолжительность
Еще один опрос «Зеркало недели» — не столько о книгах, сколько о нашем представлении будущего и месте памяти в нем. Более половины респондентов (51%) ответили: библиотеки нужны, но их формат должен измениться, приспособиться к новой эпохе. Это голос за гибкость. За сочетание традиции и технологии. За то, чтобы библиотека не стала музеем, но и не потеряла свой аутентичный смысл, став просто сервером. В этом желание иметь место, где не только сохраняется слово, но и живет сообщество.
Инфографика: ИА «ФАКТ»
44% сказали: «Да, ничто не заменит книги». Это не об отрицании цифровых технологий, а о другом — о странице, которую можно пролистать. О времени, которое идет иначе среди книжных полок. Об опыте чтения, который не воспроизводит ни один экран. О том, что книга – это не только содержание, но и присутствие.
4% считают, что у всех книг есть и может быть в смартфоне — и этого достаточно. Это голос людей, живущих максимально мобильно. У них вся библиотека в кармане, весь архив в облаке. И это не легкомыслие, а выбор способа выживания в мире, где скорость часто важнее глубины.
1% выбрали «другое». И, возможно, именно в этой позиции что-то особенно интересное. Ведь это может быть о библиотеках, которые существуют на перекрестке опыта: библиотеки в голове, библиотеки в жестах, библиотеки устной памяти. Может, это о ставших читальнями бомбоубежищах или о волонтерских полках в центрах для переселенцев.
В итоге этот опрос — о большой общей потребности: иметь точку опоры. Формат может изменяться. Но сам факт того, что мы говорим о библиотеках, уже знак того, что слово до сих пор важно. И пока оно есть шанс оставаться людьми, даже в мире, который меняется быстрее, чем успеваешь дочитать раздел.





